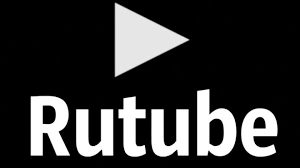
 |
 |
|
||||
 План мероприятий БИК План мероприятий БИК Выставки Выставки Виртуальные выставки Виртуальные выставки Семинары, презентации, Семинары, презентации, Тема года Тема года 1941-1945. Мы помним, 1941-1945. Мы помним, Буккроссинг Буккроссинг Дарители Дарители Дополнительное образование. Дополнительное образование. |
СЕМИНАРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВСТРЕЧИ
Встречи Литературного клуба, посвященные философии творчества Бориса Пастернака
3 марта и 14 апреля 2025 г. состоятся две встречи Литературного клуба в Библиотечно-информационном комплексе, посвященные философии творчества Бориса Пастернака. Они приурочены к 135-летию со дня рождения поэта.
14 февраля в преддверии этих литературно-философских встреч в библиотеке (Ленинградский проспект, 51, корпус 1, комн. 0116) открылась выставка, приуроченная ко дню рождения поэта.
Организаторы мероприятия:
-Научный кружок "Философская Москва" Кафедры гуманитарных наук (руководитель Евгения Сергеевна Бужор, к.ф.н., доцент Кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета)
-Библиотечно-информационный комплекс.
Первая встреча носит название «Жизнь как бессмертие» и прежде всего задумана как попытка осмысления романа «Доктор Живаго». Вторая встреча носит название «Жизнь как музыка» и связана с определением роли музыки в жизни и творчестве Бориса Пастернака.
Надеемся, что все члены Литературного клуба прочитали (прочитают) роман «Доктор Живаго» и обратят особое внимание на тему жизни и бессмертия, а также тему музыки, которая сопровождает человека.
Обращаем внимание на важные места в романе:
Рекомендуем виртуальные выставки:
Выступление Ольги Седаковой на международном фестивале Meeting (21 августа 2011 года, Римини, Италия). «И жизни новизна» О христианстве Бориса Пастернака»
Итак, Борис Пастернак – художник, а не систематический богослов или философ. Но это не значит, что к его «поэтическому богословию» мы можем относиться снисходительно.
«Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу!» (Пастернак)
Душа, Жизнь, Христианство, Реализм сходятся в том, что являют собой прежде всего дар и волю дарить, безоглядную щедрость:
Как будто вышел человек, И вынес, и открыл ковчег, И все до нитки роздал. В искусстве он видит службу бессмертию, работу по преодолению смерти, «усилье воскресенья». «Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает» (Пастернак).
Искусство он понимает как деятельность символическую, и потому может высказать такой парадокс: «несмотря на то, что Бах был композитором, его произведения действительно вершины бессмертия» (Письмо Ренате Швейцер).
О жизни как о подарке Творца и как о дарении себя другим Пастернак повторяет без конца, в стихах и прозе. В дарении себя, в создании неистощимо дарящей вещи и есть то подражание Христу, imitatio Cristi, которое доступно художнику.
Почему нет смерти? Потому что «прежнее прошло». Смерть относится к «прежнему». К «прежнему» относятся расы, классы, народы, любые общности и обобщения, отменяющие единственного человека и его дар. К «прежнему» относится посредственность и «чертовщина будней». Все это «прошло». Мы свободны от тысячи прошлых вещей и бояться нечего. Счастье и необъятность открывшегося нового – и гибельность, труха всего не-нового (а это почти все вокруг, как в советской России, так и на Западе): путаного, бестолкового, ненужного – главная тема последних писем Пастернака.
Ландшафт, увиденный как богослужение:
Природа, мир, тайник вселенной, Я службу долгую твою, Объятый дрожью сокровенной, В слезах от счастья отстою. («Когда разгуляется») Интервью Ольги Седаковой
«Для него жизнь и есть какое-то бессмертие, великолепие». Ольга Седакова к 60-летию кончины Бориса Пастернака
Наш выдающийся филолог Вячеслав Всеволодович Иванов как-то сказал, что такое впечатление, что до книги «Сестра моя – жизнь» русская поэзия была как будто то ли глуховата, то ли подслеповата, а здесь появилась совершенно другая выразительность и какое-то другое зрение. Несомненно, у предшественников Пастернака всё было в порядке и со слухом, и со зрением. Чего они не могли – это передать настолько стереоскопичного, живого мира, шевелящегося, динамичного, каждую секунду иного. Как он говорит о саде:
Он ожил ночью нынешней, Забормотал, запах… О происхождении этого словосочетания «сестра моя – жизнь» написаны исследования. В частности, за этими словами просвечивает Франциск Ассизский с его «Песнью брату Солнцу»: Хвала Тебе, Господи Боже мой, о всех твореньях Твоих, и прежде всех – о господине брате Солнце, …о брате нашем Ветре… и так далее. У Пастернака все эти францисковы братья и сёстры, все творения как бы обобщились, слились в одну «сестру жизнь». Это необыкновенное единство с миром до Бориса Пастернака не звучало ни в русской, ни, я думаю, в мировой поэзии. Как и сметание всяческих граней, барьеров в сборнике «Поверх барьеров». Он пришёл в поэзию с совершенно своим взглядом, со своим чувством, которого тоже не было до него. Один из первых критиков написал (и это очень понравилось самому Пастернаку), что его стихия – это панегирик, что его стихи – это какие-то восхищённые гимны, о чём бы они не были: они могут быть и о тоске, и о каких-то странных поворотах судьбы, но вы всегда слышите восторженный и хвалебный голос. При всех значительных переменах, которые случались в поэзии Пастернака на протяжении его жизни, установка осталась той же. В поздних более спокойный голос, более упорядоченная речь – но восторг тот же: Прощай, лазурь преображенская И золото второго Спаса. Да-да, «чем случайней, тем вернее» – это одна из разновидностей этого темперамента. У него много других тем, но вот эта как будто бы непродуманность, случайность, импровизация – тема, которую он очень любил и которая ему досталась от музыки. Он начинал ведь как музыкант, и те, кто его слушали, вспоминают, что особенно он любил импровизировать. Вы знаете, что меня в современности – уже долгой современности – очень огорчает? Это, как бы сказать, чувство поражения, с которым люди примирились: да, великие времена прошли, мы люди маленькие и будем продолжать жить в нашем маленьком мире. Конечно, с таким настроением с Пастернаком делать нечего. Ольга Седакова Похвала поэзии
Лирическая композиция, как и музыкальная, преобразует время, потоку вытесняющих друг друга вещей предлагая альтернативу: фигуру их со-присутствия, взаимно умножающего существование каждой. В идеальном стихотворении есть нечто райское. Композиция великих стихотворений вполне смело берет время во всей его наружной гибельности, не скупердяйничая и не приберегая от исчезновения «лучшие места», и вполне реально эту гибельность протекания обнимает незабываемостью, незабвенностью. Св. Франциск (которого часто называют «поэтом веры», как других – ее рыцарями, воинами, тружениками – и не только потому, что вокруг его слов и поступков кружатся Хариты и Улыбки, сопровождающие всякое совершенное создание поэта: он показывает идеальный и непостижимый, взятый с земли на небеса образец поэтического творчества, где нет свободы без благоговения и трепета без свободы, кротость пылает, как огонь поедающий и нет внутреннего, которое не являлось бы в упоительной форме) рассказал своему «брату-овечке», о чем он разговаривал с небесным гостем. Ему сказали:
– Франциск, принеси мне жертву! И он поискал и вынул золотой шар. Его просили второй раз, и третий раз – и второй и третий раз он вынимал и отдавал золотые шары. Затем ему объяснили, что эти три золотые шара означали три его добродетели, о которых сам он в себе не знал. Поскольку там, за пазухой, ничего не было – там не могло оказаться ничего нечудесного: и что чудеснее золотого шара? Вот это и кажется мне единственно новым. Таким новым и должен быть поэтический смысл. Напрасно думают, что поэзия собирает, или обобщает, или возвышает тот смысл, который есть и без нее в «реальности». Она действует с другой стороны: И на бушующее море Этого смысла в мире нет, он в мире нужен. Как раз потому, что его нет, потому что нечего вынуть из-за пазухи и подарить. Мир дан, он дарован. Елей свой поэзия не берет из бушующего моря как «суть» этого моря, а дарует ему – как то, что в его сути присутствует в виде нехватки, как предмета тоски и просьбы. О чем же оно тоскует и бушует? Как ни глупо и ни претенциозно это звучит – о безусловном бытии. О выдергивании жала небытия, болезненности движения, да всего, всего, что друг друга поглощает и вытесняет. О том, чего не дано – и что может быть только даровано. Ольга Седакова «Неудавшаяся епифания»: два христианских романа: «Идиот» и «Доктор Живаго»
Человек у Пастернака — прежде всего художник, и в этом своем качестве он брат вселенной («сестра моя жизнь») и потомок «высших сил земли и неба» («и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся, как своим великим предшественникам»). Эта тема — творчества, поэзии как фундаментальной глубины человека, и не «профессионала», а человека вообще, — совершенно чужда Достоевскому. Существо творчества и артистического вдохновения, как об этом в стихах и в прозе многократно и в разных словах говорит Пастернак, — это память об Эдеме, память особого рода: не ностальгическое воспоминание о навеки утраченном золотом веке, но память о рае как вечно действующей силе, «памяти будущей жизни сладкая чаша», словами первого русского писателя митрополита Илариона Киевского. Творчество, «сестра жизни» и «подобие Божие в человеке», по Пастернаку, обладает силой очищения и возрождения, поскольку сама жизнь — уже воскресение из небытия («Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили»). Жизнь, вечная жизнь, бессмертие у Пастернака — имя одной реальности. Поругание, совершенное над жизнью («жизнь — поруганная сказка», из письма Б. Пастернака), не непоправимо и по существу не проникает в ее глубину; она отходит от низости и грязи легко, как от слез, как это случается с Магдалиной в стихах Живаго, как это происходит с героиней романа Ларой. В образе Лары — новой Настасьи Филипповны — сопротивление Пастернака Достоевскому особенно очевидно. Болезнь мира не смертельна, это не болезнь к смерти, он «спит, а не умер» («И как от обморока ожил»). Святость является как врач, как великий диагност — герой романа. Говоря совсем обобщенно, в святости у Пастернака нет ничего чрезвычайного (постоянные мотивы обычности, обыденности великого), святость (или гениальность, что для Пастернака одно) в природе вещей, в природе жизни, пока она жизнь. Человек не изгнан из рая, поскольку он не изгнан из жизни.
Да, мы можем увидеть во всем этом эхо романтической Германии. Это ее «слезы от счастья», ее благоговение перед «святой жизнью», Heilige Leben Гельдерлина, перед «сказкой жизни» (Новалис). Но так же, как кошмарные образы-предчувствия старых художников (вплоть до Кафки) эпоха Пастернака сделала простой явью, так и это лирическое предчувствие о чудесной природе посюстороннего, о жизни как святости, жизни как таинстве благодарения получило в созданиях Пастернака какое-то совсем иное, можно сказать, практическое осуществление. Слова о том, что мы живем в послепастернаковское время, для многих не покажутся убедительными в той же мере, как подобное утверждение о последостоевском мире. По всей видимости, в искусстве с тех пор ничего не изменилось, разве что оно все охотнее говорит о собственном конце. Будущее, внесенное Пастернаком в настоящее, до сих пор еще ждет внимания и доверия к себе.
***** Если мы хотим по-настоящему понять творчество и духовный путь Бориса Пастернака, необходимо сделать одно важное уточнение. Жизнь для него никогда не была объектом или материалом, из которого можно лепить что и как угодно, она собеседница, единомышленница, сестра, с которой ведется диалог.
Диалог с Жизнью подобен разговору с конкретным человеком, сопровождающим тебя, идущим бок о бок с тобой. Размышления поэта о Жизни как о «голосе» берут начало в определенном понимании человека и его отношения с Реальностью. Для Пастернака человек — существо, чей центр находится не в нем, его глубочайшая природа божественна. В романе мы видим два примера двух разных подходов к жизни: один воплощен в фигуре Стрельникова (Павла Антипова), мужа Лары, другой — в Юрии Живаго. Первый полагает, что может возвыситься до того, чтобы судить Реальность, требовать от нее отчета, второй же сознает, что единственный способ предстоять перед реальностью — открыться, принять ее, или, говоря проще, полюбить ее. Для Пастернака такие взаимоотношения, отнюдь не предполагающие отвлеченный, умственный диалог или самоубеждение, неотъемлемы от человеческой природы. «Единственное, что в нашей власти, — это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». «Голос жизни» зовет, потрясает, пробуждает человека и вводит его в прямую связь с тем, что в нем сокровеннее всего; он говорит ему, что есть добро и что зло, указывает дорогу к полному свершению его личности — к свершению не как к самореализации, а как к призванию. Пастернак говорит о любви не как о простом чувстве, а как о готовности человека видеть, что Реальность — трепет Божьей любви, и именно через любовь она проявляется, открывается человеку. В годы изучения философии в Марбургском университете у главы неокантианской школы, великого философа Германа Когена, Пастернак безответно влюбился. В автобиографической «Охранной грамоте» он рассказывает о глубоком смысле этого опыта. Вместо того чтобы пережить отказ женщины как неудачу, он воспринимает его как возможность по-новому взглянуть на вещи: «В начале… я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее с достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В сравненьи с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей поверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света. <…> Меня окружили изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставить». Благодаря такому откровению (что любовь очевиднее всего на свете, очевиднее даже света солнца) Пастернак понимает: поэзия — задача, вверенная ему Богом, задача, посредством которой Бог дает ему возможность привести в движение мир; Бог, чтобы действовать, нуждается в человеке, Он ждет человека, ждет его согласия. В представлении Пастернака немыслимо, чтобы Бог действовал без человека, обходился без отношения с ним. Такое сотрудничество Бога и человека Пастернак называет искусством. Искусство для него ценно еще и по другой причине: через образы, творимые словом, цветом или музыкой, оно может останавливать время, запечатлевая раз и навсегда вечное движение и изменение Реальности, никогда не сводя его к схеме. Произведение искусства — уникальная форма человеческого самовыражения, способная представлять, а значит, в некотором смысле фиксировать и оберегать тот отзвук слова Божия, которым пронизана Реальность. Ольга Седакова называет лейтмотивом поэзии Пастернака «благодарную побежденность миром» — это постоянное самопожертвование и самоотречение ради мира (в романе «Доктор Живаго» главный герой, которого можно назвать alter ego автора, оканчивает свои дни не слишком счастливо, опускается и умирает жалкой смертью, но, несмотря на это, он осуществляет свое предназначение, судьбу, вверенную ему Богом, — завершает сборник стихов). Побежденность формируется как жест благодарности, как глубокое утверждение Реальности, как признание, что она непрестанно призывает человека к отношению с тем, что лежит за пределами его зрения, за рамками любых его теорий и убеждений. Реальность держится на постоянном присутствии Другого, она отражает любовь, которая безвозмездно даруется человеку. Признание присутствия этой неустранимой любви позволяет человеку обрести внутреннее доверие по отношению к жизни и ее устройству, доверие, которым дышит каждая строчка Пастернака. Поэтому центральный принцип организации художественного пастернаковского текста - принцип контрапункта или «судьбы скрещенья». Весь роман построен так, что герои постоянно будто бы случайно пересекаются друг с другом, совершенно не зная об этом. Одним из таких ярких примеров является эпизод, когда Лара приходит к своему будущему мужу Павлу Антипову для серьезного разговора: с просьбой о скорейшем венчании. Павел тушит свет и зажигает свечу, и тепло от свечи протаивает на замершем окне темный глазок. В это время по другую сторону окна еще не знакомый с героями Юрий Живаго проезжал мимо и размышлял о том, что Блок - это явление Рождества в русской литературе. В этот момент он тоже увидел темный глазок от свечи... Вот как это описывается в романе: «Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникающий на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало. Свеча горела на столе. Свеча горела-шептал Юра». Так рождается стихотворение «Зимняя ночь». Создание этого поэтического шедевра связано и с реальными событиями из жизни Пастернака, с его поездкой в феврале 1947 года вместе с Ольгой Ивинской в гости к пианистке Марии Юдиной. Об этом рассказывает исследователь биографии и творчества Пастернака, автор знаменитой книги «Лара моего романа» Борис Мансуров: «Ольга Ивинская, последняя муза и любовь поэта, рассказывала мне, что в тот вечер была сильная метель. – Такси, в котором они ехали, долго плутало по хорошёвским дворам среди одинаковых домиков. Наконец в одном окне на первом этаже увидели мигающий огонь свечи. Свернули – оказалось, это тот самый корпус 5, где все уже ждали поэта...Борис Леонидович сел за столик и начал читать: «Шли и шли, и пели вечную память…» Прочитал он, по-моему, до «Ёлки у Свентицких»… Читал и стихотворения, которые вошли в роман в качестве сочинений Юрия Живаго. Среди них «Рождественскую звезду»: «Всё злей и свирепей дул ветер из степи / Все яблоки, все золотые шары». – Потом Мария Вениаминовна стала разливать чай, и началось обсуждение». «Ночью Мария Вениаминовна Юдина написала Пастернаку письмо, полное восторга и благодарности: «Это не прекращающееся высшее созерцание совершенства и непререкаемой истинности стиля». В письме она обсуждала повороты сюжета и поведение героев будущего романа-эпопеи. В конце письма добавляла: «Если бы Вы ничего, кроме «Рождества», не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего безсмертия (так в письме. – Автор) на земле и на небе. Умоляю дать списать». Итак духовным завещанием Пастернака, своеобразной визитной карточкой романа «Доктор Живаго» является его заключительная часть со стихами главного героя Юрия Живаго – недосягаемая вершина поэтического искусства. В этих стихах раскрывается вся глубина христианской мысли и философия всеединства Владимира Соловьева, завещанная им поэтам и мыслителям Серебряного века. Единство мира по Соловьеву реализуется через софийное начало красоты и смысла, а также тему Богочеловечества. Обращаем внимание, что в фондах Библиотечно-информационного комплекса представлены произведения классиков литературы (русской и зарубежной) на иностранных языках. Например, в Медиатеке (Ленинградский проспект, 51/1, комн. 0117) на выставке находится редкое издание 1964 года на немецком языке романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (перевод сделан по первому изданию романа 1957 года на итальянском языке: Giangiacomo Feltrinelli, Editore, Milano).
15.02.2025
| |||||
|
|
|
|||||